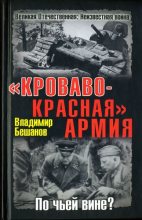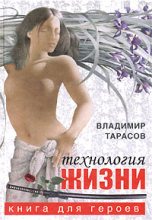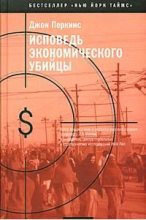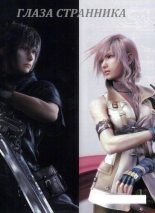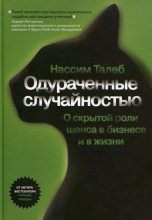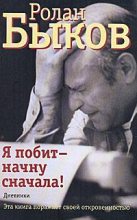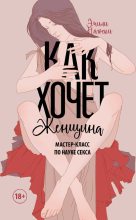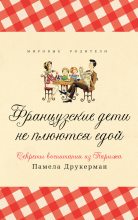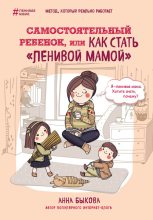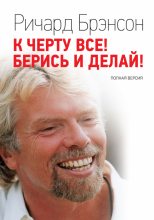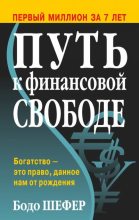Школе NET
Register
Do you already have an account? Login
Login
Don’t you have an account yet? Register
Newsletter
Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!
Главный Попко
Помогите пожалуйста. Срочно. До 20:00 нужны ответы хотя бы на 1 упражнение
Лучший ответ:
Энджелл
IСложные союзные предложения — сложносочиненные
2) Река сплошь была занесена плавником, и, следовательно, всюду можно было перейти с одного берега на другой.
(Река была занесена; можно было перейти)
9) Белый дым волнующими клубами плывет перед окнами, плавно падает и стелется по снегу около дороги, а по вагону ходят широкие тени.
(Дым плывет,падает и стелется; тени ходят)
IIСложные союзные предложения — сложноподчиненные
5) Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова.
(Я вспомнил и обрадовался, увижу)
8) Во сне мне грезилось, будто я попал в капкан.
(Грезилось; я попал)
III Сложные бессоюзные предложения
4) Местность кругом была ровная, прятаться в ней было негде, за исключением, пожалуй, кустарника, росшего на опушке.
(Местность была ровная; было негде прятаться)
6) Азовсок — озеро совсем мелкое: хороший пловец нырнет до дна.
(Азовск — озеро; пловец нырнет)
VI Простые предложения
1) Лось — очень сильное, осторожное и умное животное.
3) По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки.
(Он не боялся, не стеснял, не интересовался)
7) Возле машины взад и вперед прогуливалась Анна, в меховом пальто, небрежно запахнутом, и легком шарфике.
Источник
Азовское море совсем мелкое хороший пловец нырнет до дна
В Черное море с верхом ушли бы наши Карпатские горы, а Балтийское могло бы лишь замочить их подошву. В Крыму и на Кавказе черноморские волны ломаются, переливаются через самих себя и вскипают пеной обычно возле самого пляжа, а на мелководье балтийских заливов — у Сестрорецка или на Рижском взморье — даже при слабом волнении белые барашки бегут уже издалека.
Разница в глубинах понятна: Черное море вместе со Средиземным и Каспийским дожило до нас как след «океана Тетис», который длинной полосой тянулся между теперешними Европой и Африкой и уходил в Азию, заполняя своими водами прогибы геосинклинали. Эта подвижная полоса земной коры с впадинами и горными цепями ограничивала на юге Русскую плиту. Сейчас от «океана Тетис» осталась лишь цепочка морей, напоминающих большими глубинами о своем геосинклинальном прошлом.
А Балтийское море само поместилось на Русской плите. Оно, как пруд, налилось в неглубокой ложбине из талых пресных вод Скандинавского ледника, налилось недавно, можно сказать, на глазах человека. Черное море выстлано слежавшимся илом, а дно Балтики, особенно в северной части, кроме того, усеяно ледниковыми валунами, которые местами мешают ловить рыбу донным тралом.
История этих двух атлантических морей при всем своем различии имеет и сходство. Оба они далеко вдаются в сушу, и на них легко отзываются все ее движения, — а ведь земная кора беспокойна.
На протяжении тысячелетий берег обоих морей медленно колыхался и то открывал им связь с соленым океаном, то закупоривал. Моря превращались в озера, озера превращались в моря. К тому же и приток речных, малосоленых вод из-за перемен в климате не был постоянен. Соленость водоемов поэтому непрерывно менялась.
Сейчас и Черное море и Балтийское — не озера, а моря. У обоих есть связь с океаном. Но связь затрудненная: из Балтики в океан ведут узкие и мелкие проливы Эресунн, Большой и Малый Бельты; на черноморскую пучину приходится лишь маленькое горлышко Босфора.
Через эти проливы из морей поверху сливается легкая опресненная вода — и реки воду не устают подбавлять. А понизу проливы цедят в моря тяжелую соленую воду. Итог спора рек с океаном таков: черноморская и балтийская вода преснее океанской, особенно в верхних слоях.
Балтийское море — самое пресное из всех наших морей. Тут на поверхности вдалеке от берегов растворено в литре воды лишь 6–8 граммов соли, а в океане — 35. Корабль дальнего плаванья, вступая в Балтику, дает осадку, и чем ближе он подходит к Ленинградскому порту возле устья многоводной Невы, тем глубже погружается. Когда плывешь на пароходике из Ленинграда в Петродворец, в одном месте, около порта, проходишь под бортами океанских судов, и опытный глаз по отметке у ватерлинии может заметить, как глубоко они сидят.
И рыба в этом море живет и ловится та, которая любит не соленую, а лишь солоноватую, опресненную воду: мелкая балтийская сельдь — салака, килька, корюшка.
В Черном море промышляют хамсу, кефаль, скумбрию, бычков. Море это не так опреснилось, как Балтийское, и летом здесь в сети то и дело попадается рыба, пришедшая на откорм из соленого Средиземного моря.
Немало рыбы дают Черное и Балтийское моря и будут давать еще больше, но не здесь выросли главные центры нашей рыбной промышленности. И все из-за того же своеобразия этих морей, о котором сейчас говорилось.
В морях многие крупные рыбы питаются мелкими рыбами, а многие мелкие рыбы — планктоном, мельчайшими животными и растениями, населяющими толщу морских вод. Среди животных планктона — больше всего еле видных веслоногих рачков. А растения планктона — это парящие в воде водоросли размером в одну клетку. Растения планктона вместе с бактериями служат пищей для животных планктона. Поэтому микроскопический растительный планктон можно считать первопищей, начальным звеном в цепочке морской жизни.
Чтобы эти мельчайшие растения, эти пловучие водоросли-клетки могли развиваться, вода должна быть «плодородной» — должна содержать питательные соли. Нужны, в частности, соли азота и фосфора. Они вносятся в море реками, усваиваются организмами обитателей моря и вместе с их останками опускаются в глубокие слои, где растворяются. Но они должны снова вступать в оборот. И то море плодородно, в котором при перемешивании вод восходящие токи поднимают придонные питательные соли наверх, ближе к свету, — к месту развития растений планктона.
Как раз и в Черном и в Балтийском морях меньше возможностей для таких восходящих токов, для быстрого перемешивания вод, чем в других наших морях. И вот почему: помалу вливаясь в море через высокий порог проливов, тяжелая соленая вода уходит на дно и там застаивается; а более легкая, опресненная, как масло расплывается поверху. Глубинная вода, богатая питательными солями, с трудом поднимается вверх, а поверхностная вода, обогащенная кислородом, который растения планктона восприняли с помощью солнечного света, с трудом опускается вниз.
В корытообразном, глубоком Черном море толща воды, кроме наружного пласта в 200 метров, вовсе лишена кислорода. Уж на что это южное теплое море кажется нам благодатным, а оказывается — вся жизнь замыкается здесь в верхнем тонком слое, таком тонком, что его можно насквозь проткнуть Ялтинским молом. Наверху, где вода хорошо вентилируется, кипит жизнь, а глубже все отравлено сероводородом. Там живут лишь немногие бактерии.
Но вот что интересно: в глубинах Черного моря обосновалась самая бедная, безжизненная часть Мирового океана, и тут же рядом, в двух шагах, мы находим самый богатый его участок, где каждая капля полна жизни. За узким Керченским проливом как раструб Дона лежит Азовское море — залив Черного, его «пазуха», как говорили в старину. Это самое маленькое из всех наших морей — менее 40 тысяч квадратных километров. Оно хоть и не выделяется разнообразием животных и растений, но по обилию их на единицу площади занимает первое место среди всех морей планеты. Азовское море совсем мелкое — хороший пловец нырнет до дна. Рядом с черноморской бездной Азовское море похоже на ладонь, подставленную под текущую воду. Дон и Кубань насыщают его питательными веществами, которые они сносят с черноземных полей; солнце просвечивает его и прогревает до дна; ветер перемешивает воду при малейшем
Источник
Азовское море совсем мелкое хороший пловец нырнет до дна
В Черное море с верхом ушли бы наши Карпатские горы, а Балтийское могло бы лишь замочить их подошву. В Крыму и на Кавказе черноморские волны ломаются, переливаются через самих себя и вскипают пеной обычно возле самого пляжа, а на мелководье балтийских заливов — у Сестрорецка или на Рижском взморье — даже при слабом волнении белые барашки бегут уже издалека.
Разница в глубинах понятна: Черное море вместе со Средиземным и Каспийским дожило до нас как след «океана Тетис», который длинной полосой тянулся между теперешними Европой и Африкой и уходил в Азию, заполняя своими водами прогибы геосинклинали. Эта подвижная полоса земной коры с впадинами и горными цепями ограничивала на юге Русскую плиту. Сейчас от «океана Тетис» осталась лишь цепочка морей, напоминающих большими глубинами о своем геосинклинальном прошлом.
А Балтийское море само поместилось на Русской плите. Оно, как пруд, налилось в неглубокой ложбине из талых пресных вод Скандинавского ледника, налилось недавно, можно сказать, на глазах человека. Черное море выстлано слежавшимся илом, а дно Балтики, особенно в северной части, кроме того, усеяно ледниковыми валунами, которые местами мешают ловить рыбу донным тралом.
История этих двух атлантических морей при всем своем различии имеет и сходство. Оба они далеко вдаются в сушу, и на них легко отзываются все ее движения, — а ведь земная кора беспокойна.
На протяжении тысячелетий берег обоих морей медленно колыхался и то открывал им связь с соленым океаном, то закупоривал. Моря превращались в озера, озера превращались в моря. К тому же и приток речных, малосоленых вод из-за перемен в климате не был постоянен. Соленость водоемов поэтому непрерывно менялась.
Сейчас и Черное море и Балтийское — не озера, а моря. У обоих есть связь с океаном. Но связь затрудненная: из Балтики в океан ведут узкие и мелкие проливы Эресунн, Большой и Малый Бельты; на черноморскую пучину приходится лишь маленькое горлышко Босфора.
Через эти проливы из морей поверху сливается легкая опресненная вода — и реки воду не устают подбавлять. А понизу проливы цедят в моря тяжелую соленую воду. Итог спора рек с океаном таков: черноморская и балтийская вода преснее океанской, особенно в верхних слоях.
Балтийское море — самое пресное из всех наших морей. Тут на поверхности вдалеке от берегов растворено в литре воды лишь 6–8 граммов соли, а в океане — 35. Корабль дальнего плаванья, вступая в Балтику, дает осадку, и чем ближе он подходит к Ленинградскому порту возле устья многоводной Невы, тем глубже погружается. Когда плывешь на пароходике из Ленинграда в Петродворец, в одном месте, около порта, проходишь под бортами океанских судов, и опытный глаз по отметке у ватерлинии может заметить, как глубоко они сидят.
И рыба в этом море живет и ловится та, которая любит не соленую, а лишь солоноватую, опресненную воду: мелкая балтийская сельдь — салака, килька, корюшка.
В Черном море промышляют хамсу, кефаль, скумбрию, бычков. Море это не так опреснилось, как Балтийское, и летом здесь в сети то и дело попадается рыба, пришедшая на откорм из соленого Средиземного моря.
Немало рыбы дают Черное и Балтийское моря и будут давать еще больше, но не здесь выросли главные центры нашей рыбной промышленности. И все из-за того же своеобразия этих морей, о котором сейчас говорилось.
В морях многие крупные рыбы питаются мелкими рыбами, а многие мелкие рыбы — планктоном, мельчайшими животными и растениями, населяющими толщу морских вод. Среди животных планктона — больше всего еле видных веслоногих рачков. А растения планктона — это парящие в воде водоросли размером в одну клетку. Растения планктона вместе с бактериями служат пищей для животных планктона. Поэтому микроскопический растительный планктон можно считать первопищей, начальным звеном в цепочке морской жизни.
Чтобы эти мельчайшие растения, эти пловучие водоросли-клетки могли развиваться, вода должна быть «плодородной» — должна содержать питательные соли. Нужны, в частности, соли азота и фосфора. Они вносятся в море реками, усваиваются организмами обитателей моря и вместе с их останками опускаются в глубокие слои, где растворяются. Но они должны снова вступать в оборот. И то море плодородно, в котором при перемешивании вод восходящие токи поднимают придонные питательные соли наверх, ближе к свету, — к месту развития растений планктона.
Как раз и в Черном и в Балтийском морях меньше возможностей для таких восходящих токов, для быстрого перемешивания вод, чем в других наших морях. И вот почему: помалу вливаясь в море через высокий порог проливов, тяжелая соленая вода уходит на дно и там застаивается; а более легкая, опресненная, как масло расплывается поверху. Глубинная вода, богатая питательными солями, с трудом поднимается вверх, а поверхностная вода, обогащенная кислородом, который растения планктона восприняли с помощью солнечного света, с трудом опускается вниз.
В корытообразном, глубоком Черном море толща воды, кроме наружного пласта в 200 метров, вовсе лишена кислорода. Уж на что это южное теплое море кажется нам благодатным, а оказывается — вся жизнь замыкается здесь в верхнем тонком слое, таком тонком, что его можно насквозь проткнуть Ялтинским молом. Наверху, где вода хорошо вентилируется, кипит жизнь, а глубже все отравлено сероводородом. Там живут лишь немногие бактерии.
Но вот что интересно: в глубинах Черного моря обосновалась самая бедная, безжизненная часть Мирового океана, и тут же рядом, в двух шагах, мы находим самый богатый его участок, где каждая капля полна жизни. За узким Керченским проливом как раструб Дона лежит Азовское море — залив Черного, его «пазуха», как говорили в старину. Это самое маленькое из всех наших морей — менее 40 тысяч квадратных километров. Оно хоть и не выделяется разнообразием животных и растений, но по обилию их на единицу площади занимает первое место среди всех морей планеты. Азовское море совсем мелкое — хороший пловец нырнет до дна. Рядом с черноморской бездной Азовское море похоже на ладонь, подставленную под текущую воду. Дон и Кубань насыщают его питательными веществами, которые они сносят с черноземных полей; солнце просвечивает его и прогревает до дна; ветер перемешивает воду при малейшем
Источник