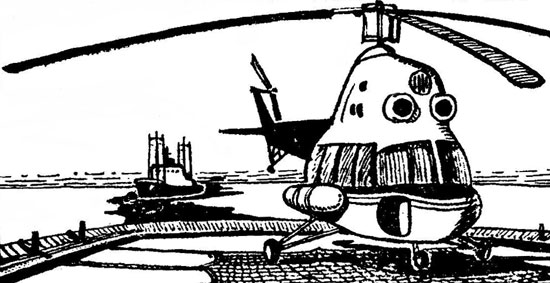Вместо предисловия
Ломоносов
Есть корабли, самим созданием своим уже предназначенные для того, чтобы всегда быть первыми. Я имею в виду атомные ледоколы. Их всего три на планете, и все — в нашей стране.
Первый из них — атомоход «Ленин», не только вписавший за два с лишним десятилетия своей работы немало славных страниц в летопись освоения Арктики, но и растопивший лед недоверия и пессимизма, которых с лихвой хватало в период его создания.
Второй — атомный ледокол «Арктика», впервые в истории мореплавания достигший в активном плавании Северного полюса.
И, наконец, родная сестра «Арктики» — «Сибирь», одному из уникальных рейсов которой и посвящена эта книга.
. 17 августа 1977 года: «Арктика» — на Северном полюсе! Эта весть в считанные часы облетела весь земной шар, вызвав бурю откликов и самых разных эмоций — восторга и удивления, восхищения и признательности, а кое у кого — растерянности и замешательства. Слишком уж неожиданным для большинства людей было то, что свершилось.
Не только считавшиеся неприступными мощные ледовые бастионы Центральной Арктики, но и привычные представления о судоходстве в высоких широтах сумел сломать наш атомный богатырь, приведенный к вершине планеты прославленным полярным капитаном Героем Социалистического Труда Юрием Сергеевичем Кучиевым.
Полюс тогда настолько приковал к себе взоры, мысли и чувства, что немногие обратили внимание на слова руководителя экспедиции министра морского флота СССР Тимофея Борисовича Гуженко в интервью журналистам после успешного завершения похода:
— Мы поведем корабли на восток более короткими полярными трассами. Быстрее, надежнее, дешевле — вот чего надо добиваться. Это диктуется задачами, поставленными перед арктическими моряками партией и правительством.
Сказанное означало, что рейс к полюсу открыл новый этап в освоении высоких широт, стал точкой отсчета новых свершений в Арктике.
Очередной шаг в неизведанное предстояло совершить атомному ледоколу «Сибирь» и дизель-электроходу «Капитан Мышевский». Шаг к решению задачи, стоящей перед человечеством уже не одно столетие, шаг к достижению цели, вызывавшей в свое время немало дискуссий, правота в которых утверждалась не только темпераментом и красноречием теоретиков, но также отвагой, риском, а порой и ценой жизни представителей многих поколений арктических мореплавателей.
Разве можно, говоря об истоках, обойти, скажем, проект использования Северо-Восточного морского прохода для коммерческих целей, предложенный еще в XVI (!) веке дьяком великого князя Московского Дмитрием Герасимовым,
А каким даром предвидения надо было обладать, чтобы всего два века спустя написать: «. Северный океан есть пространное поле, где. углубиться может Российская слава, соединенная с беспримерною пользою через изобретение восточно-северного мореплавания в Индию и Америку». Это — Ломоносов, «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию».
Экспедиция за экспедицией отправлялись в Арктику, стремясь доказать возможность сквозных плаваний через Северный Ледовитый океан, связать удобным, надежным, дешевым путем Европу с Сибирью и Дальним Востоком.
Но господствовавшим долго оставалось мнение, высказанное еще в начале XVII века известным голландским географом И. Массой: «Северный морской путь закрыт, и все желающие его открыть претерпят неудачу в своих попытках».
Только в 1878-1879 гг. экспедиции Норденшельда удалось впервые на пароходе «Вега» совершить сквозное плавание с запада на восток через все моря Северного Ледовитого океана, да и то за две навигации, с вынужденной зимовкой в Восточно-Сибирском море, у острова Колючин. Однако, как ни парадоксально, вывод Норденшельда сыграл на руку скептикам: «Морской путь из Атлантического океана в Тихий вдоль северных берегов Сибири. едва ли будет иметь действительное значение для торговли».
Самое начало XX века. Докладная записка Дмитрия Менделеева министру финансов царской России графу Витте: «. Победить полярные льды надобно и особенно желательно для прямой промышленной пользы человечества, такой же, по крайней мере, как и для торжества знаний. Победу можно считать полною, однако только тогда, когда судно, снаряженное в Европе, скоро и прямо пройдет в Берингов пролив». Тут уже — конкретная задача и условия, при которых ее можно считать выполненной: скоро и прямо.
Впервые более или менее «скоро» — за одну навигацию — судну, «снаряженному в Европе», удалось пройти в Берингов пролив лишь в 1932 году. Советский ледокольный пароход «Сибиряков» затратил на весь тот знаменитый рейс 65 суток.
Плаванию предшествовала длившаяся несколько лет дискуссия на страницах центральной печати о том, что выгоднее для развития экономики Сибири и Дальнего Востока: железнодорожный или морской путь. Своего рода итог дискуссии подвел В. Визе в своей вышедшей в 1931 году небольшой брошюре «Международный полярный год»: «Кардинальным пунктом для использования естественных производительных сил нашего Севера есть проблема мореплавания вдоль всей арктической окраины Союза. »
Однако идея эта казалась тогда авантюрной многим даже в Наркомводе, и ее ярым приверженцам — профессору Визе и Отто Юльевичу Шмидту, — доказывая необходимость и реальность своего плана сквозного плавания по Северному морскому пути за одну навигацию, пришлось проявить не меньше упорства и настойчивости, чем в самом походе.
С легкой руки газетчиков трассу, проложенную «Сибиряковым», окрестили «Полярным Турксибом». Теперь, полвека спустя, «Сибири» и «Капитану Мышевскому» предстояло, если пользоваться аналогичной терминологией, проложить «Арктический БАМ»: доставить 6250 тонн груза из Мурманска в Магадан за 25 дней. Доставить, по выражению Менделеева, и «быстро», и «прямо»: караван должен пройти не обычной прибрежной трассой, а без заходов в порты, значительно севернее всех арктических островов, в таких высоких широтах, где не бывало еще ни одно транспортное судно. Это позволило бы сократить традиционный маршрут примерно на тысячу миль.
На обратном пути «Сибири» необходимо доставить на дрейфующую станцию СП-24 необходимые грузы. Возвращение атомохода на запад запланировано по кратчайшей трассе через практически никем не хоженые паковые льды Центрального Арктического бассейна.
В сценарии документального фильма об этом уникальном плавании, который предстояло снимать на борту «Сибири» и «Капитана Мышевского», я прочитал такие строки: «. Летняя навигация в Заполярье похожа на уборочную страду: во что бы то ни стало надо уложиться в отпущенные природой сроки». Прочитал на борту атомохода 25 мая 1978 года, в день, когда начался рейс, которому предстояло доказать обратное. Ведь начался он примерно на два месяца раньше тех самых «отпущенных природой» сроков.
— Этот рейс в условиях не открытой еще арктической навигации, — сказал несколькими днями раньше начальник Администрации Севморпутн Кирилл Николаевич Чубаков, — исключительный. Первый шаг. Потом будет и второй, и третий, и четвертый. Но первый всегда самый тяжелый.
Да, такого Арктика еще не видела. Впрочем, как показали дальнейшие события, она никогда не видела многого из того, что происходило в походе.
Источник
Разведчики
Разведчики
Виталий Холодняк со школьных лет любил рисовать, собирался поступать в художественное училище. Но стал летчиком, моряком и полярником одновременно — пилотом вертолета ледовой разведки на атомоходе.
За двадцать с лишним лет, прошедших с первого самостоятельного вылета, Виталий Григорьевич провел в воздухе 11 тысяч часов — год и три месяца! И сейчас уже не мыслит себе иного пути. Лишь снящийся иногда по ночам запах масляных красок, к которому с малых лет не может относиться равнодушно, нет-нет да и всколыхнет душу, как воспоминание о первой любви.
Жаль, что рисовать времени практически не остается. Ведь пилоты в Арктике летают с первых лучей солнца до наступления темноты, а это — 7-8 месяцев.
И в школу, где учатся две дочери Холодняка, его приглашали не раз — выступить, рассказать о своей работе. Но, как назло, всякий раз незадолго до намеченного дня приходилось улетать в очередную командировку. Так случилось и перед нашим рейсом.
А рассказать ему есть о чем. Еще на Ан-2 облетал весь Кольский полуостров. В шестидесятом году впервые поднял в воздух юркую винтокрылую машину и с тех пор не изменяет вертолету. Особенно любит Ми-2.
Чего только не довелось делать в полетах: искал тюленей, разведывал снежные лавины в Хибинах, два года был в Антарктиде, даже оленей в стадах приходилось подсчитывать с воздуха. И вот уже седьмую навигацию — на ледоколах: «Ленин», «Мурманск», «Красин», «Киев», «Арктика», а теперь — «Сибирь».
— Над землей, правда, летать как-то спокойнее, — считает Холодняк. — Но ко льдам уже привязался. Нравится эта работа: каждый полет — новые ситуации, новые сложности. И потом, ведь чертовски интересно — прокладывать дорогу во льдах целому каравану судов. Не то, что оленей считать сверху.
Когда смотришь на Григорьича (так его называют коллеги) в полете, он выглядит очень правильным, уверенным в себе и машине, готовым к любым неожиданностям. Даже, пожалуй, слишком. Как-то я сказал Холодняку в шутку, что иногда кажется: а не родился ли он сразу пилотом-инструктором?
— Ага, прямо в мундире, — отпарировал Григорьич и рассмеялся, вспомнив случай, происшедший еще в самом начале его работы в Арктике.
Тогда, подлетая к ледоколу после разведки, увидел он с воздуха медведя около одного из судов каравана. Заметил и высыпавших на палубу людей с фотоаппаратами. «Дай, — подумал, — подгоню косолапого поближе». Снизился и с ревом пронесся над самой головой мишки. А тот перепугался настолько, что подбежал к самому борту, перемахнул через него (благо, льды доходили чуть ли не до уровня палубы) и оказался на судне. Народ — врассыпную.
Чем бы все это могло кончиться — трудно сказать. Да, видно, здорово перетрусил косолапый: подскочил к противоположному борту, так же лихо перемахнул через него и дал деру. Только его и видели.
Холодняк нередко вспоминает этот случай, занимаясь с молодыми пилотами. Рассказывает о нем, чтобы поняли: здесь, как в шахматах, надо думать всегда на несколько ходов вперед, предвидя любые возможные последствия даже самых, на первый взгляд, незначительных действий в полете, чтобы в соответствии с железным правилом моряков, летчиков и полярников чувствовали себя ближе к опасности.
А вот то, что произошло 14 сентября 1977 года, Григорьич вспоминать не любит.
В тот день он уже возвращался на аэродром. Ровно гудел двигатель. Стрелка альтиметра застыла на 500 метрах.
Беда, как нередко бывает, подстерегла на последних минутах полета, когда, казалось, уже ничего не могло произойти.
Вертолёт сильно тряхнуло и вдруг стремительно завращало вокруг вертикальной оси, потянуло в пике. Сопки, покрытые снегом, редкие деревья слились в сплошной круг.
В мгновение летчик понял все: оторвался хвост. Решил садиться на авторотации (есть такой способ — когда вращающийся под напором воздуха винт замедляет падение).
Успел передать по радио:
Земля ответила, но Холодняк не слышал: наушники сорвало страшной перегрузкой, вдавившей тело в кресло. Она не давала пошевелить ни рукой, ни ногой.
Страха не было. Ручка управления, сектор газа, педали — вот все, что существовало для летчика в эти секунды. И еще земля, летевшая навстречу.
Ближе и ближе бешеный хоровод деревьев.
— «Интересно, больно будет?» — подумал Виталий и до отказа двинул вперед рукоятку газа.
Взревел на полной мощности двигатель. Удар — вертолет плюхнулся в болото, завалившись на правый борт.
И тишина. Только слышно, как шипит раскалившийся двигатель от попавшей на него воды.
— Что же я сижу? А вдруг он загорится? — промелькнула вдруг в сознании мысль.
Попробовал открыть Дверь — заклинило. Перебрался через соседнее сиденье, открыл другую дверь и выбрался наружу. Прислонился спиной к березе и стоял, наслаждаясь твердой землей под ногами и тишиной, полной грудью вдыхая холодный воздух.
Вскоре послышался гул вертолета — к нему спешили на помощь. Но он справился сам. Продолжалось все это секунд 35-40.
Долго осматривали, ощупывали его врачи, недоуменно покачивали головами: бывают же, мол, случаи — падать с такой высоты, и ни одной царапины.
Конечно, то, что у вертолета оторвался хвост, — случай редчайший, все их можно пересчитать по пальцам. А вот то, что Холодняк сумел посадить машину, не получив даже царапины, простой случайностью не объяснишь. Скорее, это — закономерный итог всей его предыдущей работы в воздухе.
Через несколько дней («. Еще спина побаливала после удара. ») он вновь поднялся в воздух:
— Походил в героях, и хватит. Дело за меня никто делать не будет.
Если вы подумаете, что все это рассказал мне сам Виталий Григорьевич, то ошибетесь минимум процентов на девяносто. Перед первым вылетом с «Сибири» мы обедали с ним за одним столом в кают-компании. Стоило мне заикнуться о его работе, как Григорьич начинал рассказывать о знатных борщах, которые варят в его родных южных краях, расхваливать жареную «по-сибирски» картошку или вспоминать домашние пироги. А потом, уже допивая компот, стрельнул в меня взглядом исподлобья и сказал: «Да и вообще, что о нас писать? Мы ведь здесь просто в командировке. »
И вот он уже идет к вертолету, высокий, спокойный, даже элегантный, чем-то похожий на дипломата, если бы не форменные синие брюки, видавшая виды кожаная куртка и каракулевая ушанка с летной эмблемой.
На вертолетной площадке — практически все корреспонденты, кинооператоры. Никто не хочет пропустить первый вылет.
Весело, словно радуясь началу работы, зажужжала турбина. Вместо лопастей винта — сплошной серебристый круг.
— Прошу разрешить взлет, — звучит на мостике чуть искаженный ларингофоном голос пилота.
— Погоди, сейчас одну льдинку пройдем, — отвечает дублер капитана.
«Льдинка» эта, между прочим, — метров двести сплошных торосов. Но вот она уже за кормой.
Свист турбины вертолета становится все тоньше, а круг, образованный вращающимися лопастями винта, — почти невидимым.
Наш Ми-2 чуть-чуть, словно потягиваясь, приподнимается над страховочной сеткой, прикрепленные к палубе растяжки не дают ему пока оторваться совсем.
Но вот вертолет, словно гигантская стрекоза, взмывает вверх, обходит ледокол справа и быстро уносится вперед, превратившись вскоре в крохотную точку.
— Возьмите влево до 50, — раздается из динамика сквозь помехи голос гидролога.
— Понял, спасибо, — отвечает вахтенный.
Ледокол послушно сворачивает туда, где с вертолета заметили участки разреженного льда. Так экономятся минуты, часы, а в конечном итоге — сутки рейса, многие сотни тысяч государственных средств.
Впервые ледовая разведка с воздуха в Арктике была произведена почти семьдесят лет назад. 8 августа 1914 года русский офицер Ян Нагурский поднялся в воздух у северного побережья Новой Земли. Цель — поиски пропавшей экспедиции Георгия Седова и содействие плаванию спасательного судна во льдах.
В своем рапорте Нагурский писал: «Летать в арктических странах хотя и тяжело, но вполне возможно. И авиация в будущем может оказать. большую услугу. при рекогносцировках льдов. »
В советское время ледовую разведку практически начали использовать еще в самом начале нашей первой пятилетки. Я имею в виду полеты Бориса Григорьевича Чухновского в 1929 году в Карском море. Однако при тогдашней технике, мало в чем изменившейся со времен Нагурского, хлопот от ледовых разведчиков было во всяком случае не меньше, чем пользы. Рассказывают, что капитан ледокола «Ермак» Михаил Яковлевич Сорокин (его именем сейчас назван современный ледокол) любил говаривать: «Да, тяжела ты, жизнь моряка, — шторма, туманы, льды, мели и. самолеты».
Сейчас там, где когда-то летал Нагурский, у северного побережья Новой Земли, под проводкой атомохода «Сибирь» идет транспортное судно. А в воздухе — ледовый разведчик Руслан Александрович Борисов, который в эти минуты в полном смысле слова ведет за собой наш караван.
Герой Советского Союза Марк Иванович Шевелев назвал как-то воздушную ледовую разведку «глазами судна». Такие слова из уст одного из старейших наших полярных летчиков значат немала
Только уж больно непростая эта работа, не каждому под силу. Потому и мало классных воздушных разведчиков — по пальцам можно пересчитать.
В судовой роли их называют гидрологами — так повелось издавна. Но гидрология — лишь небольшая часть того, что должен знать и уметь ледовый разведчик: разбираться в метеорологии, навигации, гидрографии, тактике ледового плавания, быстро нарисовать карту ледовой обстановки, поддерживать устойчивую радиосвязь с судном. И это еще далеко не все.
— Главные качества воздушного разведчика, — считает Руслан Александрович, — быстрая реакция, хорошая зрительная память и вырабатывающееся с годами умение «чувствовать лед».
— Ну а каких качеств не встретишь у людей вашей профессии?
— Пожалуй, нет слишком осторожных гидрологов. И впрямь, чем тяжелее обстановка, чем хуже погода, тем нужнее их данные. А с высоты больше трехсот метров уже и не определишь, что за лед под тобой.
Вот и носится вертолет над самыми торосами в снег, туман, ветер, иногда и «подсесть» приходится на льдину. А что там, под снегом, — прочный лед, вода, трещина. Поэтому на всякий случай в вертолете всегда есть аварийный запас еды, оружие, спасательные средства.
— Слава богу, пользоваться всем этим мне ни разу не приходилось, — говорит Борисов.
Незаметно пролетела почти четверть века его работы в Арктике. Начинал еще на знаменитом «Красине» в 1957 году. Кончил училище в Ленинграде, а потом — географический факультет Ленинградского университета. Летал на всех типах самолетов и вертолетов, использующихся для ледовой разведки. Сейчас разменял уже одиннадцатую тысячу часов, проведенных в воздухе.
Чего только не было за это время: не спал по нескольку дней, летал по 14 часов в сутки, выводил караваны из таких лабиринтов, которые никто кроме матушки-природы и придумать не смог бы.
Лишь одно не получилось у Руслана Александровича: пробовал работать на берегу — и не смог.
— Моя главная наука, — считает он, — искать дороги во льдах.
И этой наукой владеет в совершенстве. Недаром носит звание инструктора — высшее в его профессии. Поэтому и знают его практически во всей Арктике. Потому и доверяют ему капитаны полностью.
Полвека прошло со времен полетов Чухновского. Неузнаваемо изменилась техника, иными стали летчики, гидрологи, иными стали капитаны. Герой Социалистического Труда капитан атомохода «Ленин» Борис Макарович Соколов, например, налетал в одну из навигаций на вертолете ледовой разведки даже больше гидролога.
Взаимопонимание между гидрологом и тем, кто ведет судно, — непременное условие успешных плаваний в Арктике. Но это, пожалуй, посложнее даже, чем разбираться в ледовой обстановке.
— Если нет контакта со штурманом, хуже некуда,- говорит Борисов. — Ведь в полете даже настроение его чувствуешь, хотя вертолет может находиться в десятках миль от ледокола. От гидролога ждут только приятных известий. С плохими лучше не прилетай — иной «впитан еще и «разнесет» тебя за это. Будто я с высоты могу дирижировать ледовой обстановкой. А иной так задергает, загоняет, что света белого не взвидишь. Да еще, не поверит, пойдет другим курсом, выводи его потом.
Потому, наверное, так горячо Руслан Александрович доказывает свою правоту, если появляются сомнения в его рекомендациях (что, кстати, бывает очень и очень редка). Поэтому так искренне расстраивается, если ошибется (а это уж вообще случай из ряда вон выходящий).
Разным приходилось мне его видеть в рейсе: спокойно-ироничным и рассерженным, веселым и сосредоточенным. Но ни разу не заметил я и намека на равнодушие — нет, видно, у Борисова этого качества. Наверно, оттого и выглядит он так молодо. А у него, между прочим, сын заканчивает институт, дочь — школу. Да и самому уже можно готовиться к пенсии — такая работа.
— Правда, уйду ли я — еще вопрос, — смеется Руслан Александрович.
Забегая вперед, могу сказать, что он не ушел. В следующем году вместе с летчиком-испытателем Николаем Бездетновым и штурманом-испытателем Михаилом Рябовым Борисов (так и хочется назвать его гидрологом-испытателем — да жаль, нет еще такой должности) успешно провел первые в истории ледовые разведки в условиях полярной ночи на новом вертолете — одном из вариантов широко известного во всем мире Ка-25К.
По 7 часов в сутки летали в пятидесятиградусный мороз, в туман, в метель. Носились над торосами на 15-метровой высоте. Садились на корму «Сибири» при скорости ветра 35 метров в секунду.
Капитаны судов, находившихся тогда поблизости, только удивленно разводили руками, слушая в эфире переговоры атомохода с «таинственным» вертолетом. Уж больно похоже на мистификацию — ледовая разведка в кромешной тьме полярной ночи.
Но в нашем рейсе и сам Борисов не мог еще предположить такого. Не мог он и знать, что ждет его в оставшиеся дни нашего высокоширотного плавания.
А самые нелегкие дни здесь еще предстоят: в проливе Лонга, где практически круглые сутки придется крутиться в воздухе; на подходе к дрейфующей станции «СП-24». И когда плавание «Сибири» закончится, он придет на капитанский мостик, похудевший (хотя вроде бы худеть ему было особенно некуда), осунувшийся, встанет, ссутулясь, у одного из иллюминаторов, глянет воспаленными, слезящимися от бесконечной ослепительной белизны Арктики глазами на замерший на корме медленно остывающий после полета Ми-2 и скажет:
— Конечно, рейс интереснее других. Но сумасшедший — время вертелось раза в три быстрее, чем обычно.
Интересные шахматы на сайте. Шахматы от LiveGames.
Источник